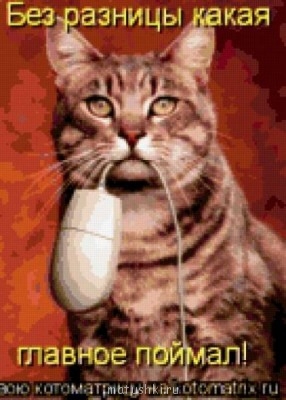Еще давно мы заприметили: на высокой скамеечке, стоявшей поодаль от кровати, спал большой, рыжий с белым, кот: голову положил на вытянутых передних лапах, а хвост свесил со скамейки; морда рыжая, только на лбу белое пятно в грецкий орех, – волосат: усы длинные, как две белые струйки бегут в разные стороны и на щеках кустики волос торчат, и в бровях волос, как фонтан, бьет, а нос – розовый и свежий, как лепесток розана. Видели мы: не поднимая головы, повел глазами – крупные, желтые, как желтый топаз с изумрудными вставочками, с изумрудной гранью, – повел на нас глазами недовольно и сонно и опять заснул. А когда Параскевушка уселась на другой скамейке, близ его, котовой, скамьи, он поднял голову, повел носом, зевнул, слез со скамьи, потянулся в самую долгую растяжку – перед матерью Параскевой – и, мурлыча, вспрыгнул – с осторожностью – ей на колени.
– От кого же это мне, сударь кот, денежки получить? – промолвила она ему. – Ну, говори, от кого?
Она водила рукой по шерсти, а он пел долгую, тягучую, как старое доброе вино, песенку, и то жмурил, то приоткрывал умные свои янтарные зрачки, сверкавшие в полутьме изумрудами.
– Не считаны еще те денежки, которые нам с тобою получать, сударь кот! Верно тебе говорю, верно, Василий Иваныч…
Никогда не слышали мы таких разговоров с котами. Наш домашний Васька попросту ловил мышей, ел печенку, бегал с нами в прятки, пел нехитрые песенки – и никто с ним никогда не разговаривал. Мы, дивуясь, слушали Параскевушкин разговор.
А Параскевушка продожала:
– Без денег хороши, сударь Василий Иваныч, – деньги в мир ход, а к монахам неход: в миру денежка звенит, а в монастыре, как тля, тлит…
– Урлы, урлы, – урлы-рлы-лы – у-рлы! – отвечал кот, – правда, отвечал, потому что он притишал, а то и вовсе сводил на нет свою песенку, пока Параскевушка с ним говорила, а только что она умолкала – он заводил тягучей и громче покойную свою песенку, – умную песню. И спина у него изгибалась приятною мягкой черно-белою волною.
– Прожили без денег, сударь Василий Иваныч, и, Бог, даст, доживем без денег. Будут добрые люди – будет и молочко тебе, – будут, будет, – она ласково и размеренно водила по спине кота худой своею рукою.
А мы, не сводя глаз, присев на корточках, смотрели на кота. Изумрудные огни в глазах у него то еле мерцали, то наливались острым, глубоким светом. А рыже-белая спина все выгибалась и опускалась, опускалась и выгибалась, как гребень вечной волны. И вдруг кот закашлял, вытянув морду, закашлял сухим, старческим кашлем, с передышками, сменявшимися новым кашлем, – и глаза его сделались еще умнее, и весь он вытянулся от напряжения.
– Старики мы стали с тобою, сударь кот Василий Иваныч, – сказала грустно Параскева, – копеечки за нас не дадут. Что на меня глядишь? Стар, сударь, стар.
Кот свернулся в клубок и затих.
– Ишь, и поседел…
Тут мы с братом ахнули от удивленья и нагнулись на корточках, над котом.
– Как поседел?
– А вот, изволь, гляди, батюшка, – сказала Параскевушка и указала на темя кота. Оно было густо рыжее в коричнету и лоснилось, но там и сям виднелись на коричнете – белые волосы, котова седина. Параскевушка погладила кота по голове и сказала со вздохом:
– Зима-то для всех равно, батюшки мои, приходит: и для человека, и для зверя. Всех снег серебрит, а посеребрит, посеребрит, подлежит снежок на головушке, – и в могилку.
Она пригорюнилась на минутку, встала со скамейки и перенесла кота на его скамейку.
– Ступай-ка полежи, сударь, а я тебе поесть принесу.
Но удивлениям нашим не был еще конец.
Параскевушка открыла ящик бабушкина комода и вынула оттуда тяжелый серебряный портсигар. На крышке портсигара, под слюдою, была миниатюра; на слоновой кости был изображен большой рыже-белый кот; он лежал на всех четырех лапках и смотрел чуть прищуренными желтыми глазами.
– Вот какой молодец был, сударь-то наш кот! – сказала Параскевушка, показывая нам портсигар. – Молодец был и красавец.
– Это Васькин портрет? – сказал брат.
Он смотрел то на Ваську, то на портсигар и не верил глазам.
– Портрет. Художник писал. По заказу.
– А почему?
Но Параскевушка спрятала портсигар и отрезала:
– Долга песня. Вырастешь – узнаешь.
Ах, это «вырастешь – узнаешь!» Часто мы это слышали – и не было ничего хуже – слышать это от папы, от мамы, от няни, от всех старших.
Почему снят был с Васьки портрет? почему на портсигаре? почему портсигар у бабушки? «Вырастешь – узнаешь!»
Няню мы спрашивали обыкновенно после этих слов: «а когда я вырасту?» – и она отвечала: «Когда будешь большой?» – «А когда буду большой?» – «Когда вырастешь». Ничего из спрашивания не выходило, но тут было так интересно, так все таинственно: кот седой; кот кашляет; – и он же молодой, красками, на портсигаре; – что я уж хотел задать Параскевушке вопрос, когда совсем неожиданно отворилась дверь из светлицы – и вошла сама бабушка. Завидев ее, кот осторожненько слез со скамейки и пошел к ней, тихо мурлыкая. Подойдя к бабушке, он потерся мордочкой о нее, поджал лапки и лег на полу….
……………………………………………………………………………………………………
Петр Ильич был неразговорчив: ответит на вопрос или скажет приветливое слово – и замолчит. Дома он разговаривать любил с птицами, а лавке разговаривать можно было с котом Васькой. Петр Ильич всегда сам кормил его, а на праздник, когда Васька оставался в лавке один, оставлял ему печенку и молока. Васька сидел в подвале, где паковали товар, и гонял крыс, иногда лениво поднимался наверх и спал на солнце – на окне, на выставленных шелковых платках.
Это был крупный рыже-белый кот, с янтарными, с чернью, глазами и ярко-розовым носом. Щеки у него были пухлы и округлы, как у филина. Он никогда ни к кому не шел на руки, кроме Петра Ильича, к которому сам не прыгал на колени, но трогал его лапой, став на дыбки, и требовал взять его. Петр Ильич брал его и гладил рукой, и кот закрывал глаза и пускал протяжное и важное свое: «урлы, урлы, урлы-рлы-рлы-лы». Когда Петр Ильич, отперев поутру, лавку, первый входил в нее и, держа в левой руке ключ и замок, правой истово крестился на образ Живоносного Источника, висевший в красном углу, у шкафа с парчой, Васька, поднимавшийся по звуку отпираемых железных дверей наверх из подвала, шел важно, с приветливым урчаньем, навстречу Петру Ильичу и обводил его своими круглыми, крупными янтарями. Васька же провожал его при закрытии лавки и тянулся на него. «К получению денег», примечал Петр Ильич. Дьякон, единственный собеседник Петра Ильича, одобрял кота:
– По шубке он куний, и ум у него не волк съел.
И даже сходил по этому поводу в некое рассуждение:
– Полагают издревле, что лев первенствует среди зверей: лев – утверждают – царь зверей. Но я полагаю, что мнение сие языческое, и первенствует-то во зверях не лев, а кошка…
– Почему же? – спрашивал Петр Ильич.
– А потому: всем зверям без малейшего исключения вход в алтарь строжайше воспрещен, а кошке нет; ежели, скажем, собака, друг людей, вбежит не в алтарь даже, а просто в церковь, то церковь святят, а кошка – входит в алтарь свободно. Не только против зверей, но даже и против жен рода человеческого у нее есть великое преимущество: женщине вход в алтарь воспрещен, а кошке – нет. И так издревле-с: кошка над женою преимуществует!
Этому диакон был рад, потому что дьяконица решительно во всем, по его доброте и смирению, преимуществовала над ним. Но Петр Ильич сомнительно качал головой: права кошки были велики и неоспоримы, но преимущество ее пред женщиною казалось ему спорно.
Года за полтора до смерти своей, Петр Ильич пришел в Рождество от обедни, разговелся, – и вспомнил, что в сочельник, запирая поздно лавку, из-за сумятицы предпраздничной и множества покупателей, он забыл оставить коту печенки и молока. Лавку отпирали на третий день праздника; двое суток приходилось коту быть не евши. Петр Ильич, поздравив хозяина с праздником, захватил ключи от лавки, налил в бутылку молока, отрезал от окорока толстый ломоть ветчины, завернул в бумаги, и пошел в ряды, никому не сказав.
Ряды были пусты; сторожа были пьяны и сидели в компании все в одном конце древнейшего рядского толстостенного здания. Было уже близко к сумеркам. Когда Петр Ильич, загремев ключами, отпер дверь лавки, он остолбенел от ужаса. Он увидел, что в темную лавку (все окна были закрыты ставнями) проходит свет из боковой кирпичной стены, выходящей в пустой амбарчик для склада ящиков и мусора, куда ход был со внутреннего двора, где не было теперь ни души. Свет шел из довольно широкого пролома. Петр Ильич бросился к особой комнатке-конторе, сколоченной из фанеры, в которой стоял шкап с деньгами и бумагами. Дверь в комнату была взломана и натоптанные снегом и грязью следы вели к шкапу. Петр Ильич облегченно вздохнул: шкап был цел, только дверь его была слегка вогнута и носила следы ударов металлическим орудием. Тут же валялся маленький ломик. Кот стоял посреди лавки, высоко подняв хвост, и громко и жалостно мяукал.
Петр Ильич сразу понял: воры бежали в пролом, пока он, слабосильный, втыкал окоченевшими руками тяжелый ключ в замок, снимал замок, и, напрягаясь, с шумом отворял тяжелую железную дверь. Петр Ильич схватил кота и расцеловал его в усатую морду. Прежде всего, он отыскал его блюдечко, налил молока и положил на пол, на бумажку, ломтик ветчины. Кот, радостно курлыча, принялся есть. Тогда Петр Ильич вышел из лавки и, не отходя от дверей, стал свистеть из всей мочи в свинцовый свисток, который у него был привешен к часовой цепочке.
Через некоторое время к нему подошел сторож из отслужилых солдат, бывший трезвее других, а потом ближайший будочник с алебардой. Он послал будочника на внутренний двор к пролому, искать, не притаились ли за ящиками воры, а сам написал наскоро записку в подшиваловский дом хозяину, чтобы прислали скорее молодцов стеречь лавку и искать воров, и послал с нею солдата-инвалида, наказав ему бежать во весь дух. Не прошло и получаса, как на рысаке в яблоках прилетел сам Иван Прокопьевич Подшивалов, затем подоспели приказчики, а через некоторое время прибыл и важный полицейский чин. Подшивалов даже побледнел, завидя свет в проломе. Он бросился к стенному шкапу, но, убедившись, что его не успели взломать, бухнулся на стул от волнения. Полицейский чин просунул багровое лицо свое в пролом, понюхал воздух, подержал в руке ломик и, с уважением посмотрев на железный шкап, сказал, обращаясь к Ивану Прокопьевичу:
– Фортуна вам покровительствует, ваше степенство: еще бы четверть часика – и денежки ваши тю-тю! – он свистнул, поведя носом.
– Вот кому обязан, – сказал Подшивалов, указывая на Петра Ильича. – Сильно благодарить буду…
– Нет, не мне-с, – произнес Петр Ильич, – а вот кому-с, – и он указал рукой на кота, который, разговевшись, сидел, довольный, посреди коморы, на задних лапах и умывался… Петр Ильич рассказал, как было дело – как он пошел навещать кота и вовремя спугнул воров.
Подшивалов стал манить к себе рукой кота, полицейский чин нагнулся его погладить, но кот, выгнув спину, не дался, лениво подошел к Петру Ильичу, не обращая ни на кого внимания, и стал тереться боком о его ноги, медлительно и полусонно курлыча.
На третий же день, тайно от Петра Ильича, уехавшего на фабрику, был позван по приказу хозяина живописец мусье Жанно, писавший портреты хлыновских дам и миниатюры на табакерках и пудреницах, и заказно было ему снять портрет с кота тонкими красками на слоновой кости. С великим трудом усадили кота пред живописцем, накормив предварительно до отвалу печенкой и парным молоком, – и мусье Жанно снял его портрет очень точно, прибавив только коту на шею восхитительную голубую ленту и усадив его на скатерть из алого шелка. За портрет тут же было отрезано мусью Жанно фуляру на платок и великолепного белого шелкового пике на жилеты и даден отрез фаю на платье для его «француженки». Портрет Васьки был помещен на крышку к прекрасному золотому портсигару, а портсигар с портретом, к великому смущению Петра Ильича, был поднесен ему хозяином в лавке, в присутствии всех приказчиков, как дар «за спасение капиталу», как было сказано Иваном Прокопьичем в сопроводительном слове.
Полицейскому чину дано было не мало (что именно – не вошло в расходные книги) – за нахождение воров, но воры найдены не были. Замечательно, что со своим портретом и сам кот Васька переселился к Петру Ильичу. Сколь ни велик был почет, каким он стал пользоваться в лавке после истории с проломом, сколь ни обширны были данные ему по сему случаю вольности, он однажды, при запоре лавки, вышел из нее прежде Петра Ильича, и, многократно в нее водворяемый, устремлялся с удивительной ловкостью вслед Петру Ильичу, пока, наконец, Петр Ильич собственнолично не запер его в лавке. Но на следующий день повторилась та же история. Мало того, однажды поутру у себя в комнатушке, Петр Ильич с удивлением заметил, что подле его постели ходит, изгибаясь, кот и поет удивительно протяжную и тонкую песню. Петр Ильич ахнул: это был Васька. Каким образом он проскользнул вчера незамеченный при запоре лавки, как он переночевал, не обнаружив своего присутствия, – он не мог понять. Кот же, увидев, что Петр Ильич проснулся, вспрыгнул к нему на постель и усиленно запел, заглядывая ему в лицо. Петр Ильич не мог сердиться и, рассмеявшись, погладил кота со словами:
– Переселился ко мне? Ну, что с тобой делать! Живи, живи, жилец!
Кот зажмурил глаза от удовольствия, поджал все четыре лапки и улегся на Петра Ильича, приготовляясь дремать. Он понял, что может спать спокойно, что он принят в постояльцы. Птиц он и не думал трогать; он даже забивался куда-нибудь в угол, когда Петр Ильич чистил клетки, желая показать, что до птиц ему нет дела, а есть единственно до мышей, печенки и молока.
…………………………………………………………………………………………………….
Петра Ильича похоронили в монастыре, невдалеке от прадеда. Поминали его, по его завещанию, все, кто хотел: были столы для народа – и «столы» эти повторялись в девятый, двадцатый, сороковой, полугодовой, годовой дни по его кончине. За ними сидели старушки, странники, богомольцы, нищие, – все, кто хотел. В острог был посылаем в эти дни воз с калачами и сайками.
Бабушка же целый год читала псалтырь по новопреставленному у себя в келье. Кот не отходил от нее. Поселившись у нее, он прежде всего переловил всех мышей и крыс и потом только обхаживал, время от времени, около мест их бывшего жительства – и этого котиного обхода было достаточно, чтоб эти места оставались пусты. Был перевезен к бабушке и любимый скворец Петра Ильича. Остальных птиц роздали ребятам, хаживавшим с Петром Ильичем, в летнее время, в рощу за птицами и в поле слушать перепелов.
Кот, встав на лапки, обнюхал клетку, но, убедившись, что это тот же скворец, что висел у покойника, взмахнул хвостом и равнодушно улегся спать на шитую шерстью скамеечку. На ней был вышит огромный серый слон с маленькой белой моськой на ярко-зеленом лугу. У моськи глаза были из черного стекляруса – и Васька, проснувшись, любил потрогать их когтями: они приятно блестели; когда он дотрогал их до того, что стеклярус разбился, пришили новые глаза из желтого стекляруса, и кот стал и за него царапать когтем. Время от времени стеклярус меняли бабушкины келейницы, а кот спокойно спал на слоне.
Он любил тишину, покой и тихую дрему. Ему пришлось слегка переменить род пищи: у Петра Ильича он питался печенкой, а по постным дням ему покупалась мелкая рыбка, щерба, а у бабушки кот перешел окончательно на рыбную пищу. В среду же и пятницу ему давали только уху – остатки от других дней, а постом, когда во всем монастыре изгонялся самый запах рыбий, ему Прасковеюшка варила изредка особую Котову уху, без перцу и лаврового листу, – и вливала ее в блюдечко из особого маленького котелка. Зато молоко доводилось ему пить парное, и, попив, он долго облизывался, выпуская длинный язык, розовый и тонкий, как лепесток розы. Кормили его в положенный час, и час этот кот знал: перед наступлением его он вставал со слона и делал круги по комнате, тихо и просительно урлыкая.
Он хорошо умел петь. У него было несколько песен. Самую тягучую, длинную-длинную, тонкую песенку он певал бабушке, лежа у ее ног на слоне или уснув у нее на коленях; он пел ее с закрытыми глазами, одной лапкой вступив в сон; потом в сон вступали другая лапа, третья; он открывал умные глаза, поводил ими по бабушке, будто хотел убедиться: «ты тут? тут», – и последней лапой вязнул в сладком сне.
Другая песенка была короче: он не заводил ее так издалека, как эту, и пел он ее с раскрытыми глазами, поджав под себя лапки, – и только изредка жмурил на минутку глаза от удовольствия. Он и сам слушал эту песенку. А пелись обе эти песенки для ласки. Кот любил бабушку.
Третьей песенкой он благодарил после еды: поест, попьет, сядет на слона – и благодарно урлыкает: урлыканья хватало не надолго: после еды так спится и глаза сами закрываются. Четвертая песенка была тревожна, настойчива, и пелась короткими переливами: ею он выражал просьбы. Он пел – и широко раскрытыми глазами смотрел на бабушку или Параскевушку: «Ты видишь: я прошу. Дай. Право, очень хочется. Дай». Пятая песенка была совсем коротка: урл! урл! урл! – и все тут: так кот просился гулять на чердак.
Труднее всего ее было петь ночью, люди туги тогда на ухо. Нужнее всего тогда ее петь. Скорее всех эту песенку заслышивала бабушка. Кот начинал свое «урл, урл» около постели Параскевушки; пождав, повторял песенку еще раз, – но Параскевушка, обыкновенно, не слышала и второй второй; тогда кот, недовольно покрутив хвостом, шел к бабушкиной постели – и в третий раз пропевал свое «урл, урл!» – и бабушка вставала с постели и выпускала его.
Старея, кот ленился уже подходить лишний раз к Параскевушке, и начинал свою настоятельную песенку прямо у постели бабушки. Бабушка сразу вставала. За это он еще больше ее любил. И иногда, когда она была одна и читала или вязала, он подходил к ней, тихо, не спуская с нее глаз, становился на задние лапы, трогал ее передними лапами, задерживая их на ее коленях, – и замечал ей: «Ты ведь знай: я тут. Я с тобою. Я люблю тебя. Я – твой». И пускал два-три тихих, мягких, мягких «курлы-курлы-урлы-мурлы».
Это была шестая песенка, самая, самая короткая. Ее никто никогда не слышал, кроме бабушки. А раньше он эту песенку также пел Петру Ильичу. И бабушка это знала. Она оставляла книгу или работу, брала кота на колени и поводила рукой по его рыже-белой шубке, а он взглядывал на нее с признательностью глазами: «Поняла. Спасибо», – и лежал у нее на коленях, пока не приходил кто-нибудь чужой. Тогда бабушка снимала его с колен и клала на серого слона. А он делал вид, при чужих, что и все время спал на слоне, и не было и нет никакой особой песенки, которая понятна только ему, бабушке да Петру Ильичу.






































 в том числе и без "пижамы", баловень.
в том числе и без "пижамы", баловень.














































































 Но зато замечательно описана жизнь кота
Но зато замечательно описана жизнь кота 


 Мобильная версия
Мобильная версия